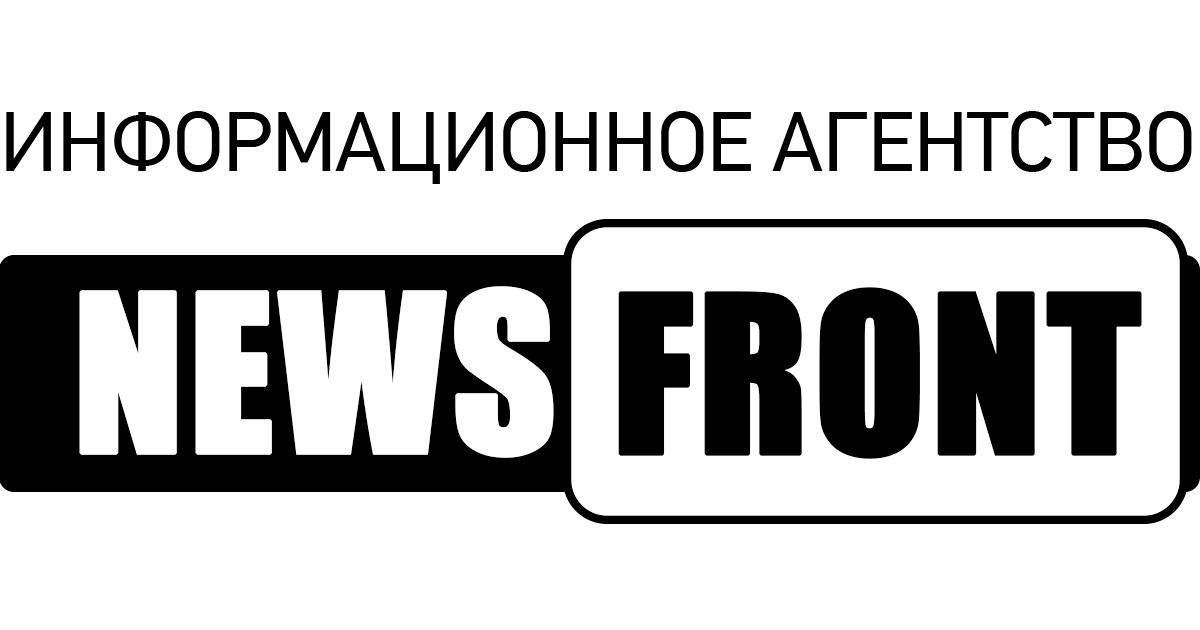Дискуссии о Белорусской народной республике (БНР), развёрнутые белорусскими националистами, которые готовятся отметить 25 марта (так называемый День воли) 100-летие провозглашения этого образования, требуют от историка высказаться по поводу того, что же это такое.

После Октябрьской революции 1917 года в не оккупированной немцами западной части бывшей Российской империи начала устанавливаться советская власть. По линии русско-германского фронта установить её было не так сложно – распропагандированные большевиками солдаты желали поскорее вернуться домой, активно поддерживая ленинский Декрет о мире. А у солдат было оружие. Неглубокий тыл также был наводнён революционными солдатами. Помимо солдат и поддержавшего революцию гражданского населения в Белоруссии существовали организации разных политических направлений. Какие-то из них были заметными, о каких-то знали в основном только их члены: к последним относились и белорусские организации националистического толка.
Фронт Первой мировой войны разделил белорусских националистов на две части. Оставшиеся на неоккупированной территории практически прекратили всякую деятельность (в условиях войны она могла рассматриваться властями империи как враждебная) и вновь начали проявлять слабую активность лишь к концу 1916 года, когда до падения монархии в России оставалось немного. А белорусские националисты, попавшие в немецкую оккупацию, встали на путь прямого сотрудничества с немецким военным командованием. В то время термина «коллаборационизм» не существовало (он появился только в середине ХХ века), но то, чем занимались белорусские националисты на оккупированной территории, вполне передаётся понятием «коллаборационизм».
Белорусские националистические деятели в оккупации получили возможность развивать свои идеи благодаря тому, что часть территории их страны была захвачена противником. Ситуация в их глазах была выгодной. Часть жителей Северо-Западного края ушла вглубь России; были эвакуированы или стали беженцами православные крестьяне, чиновники, сотрудники полиции, православные священники, западнорусская интеллигенция и другие социальные группы, не жаловавшие белорусский национализм. Казалось бы, теперь националисты могли развернуть агитацию и пропаганду, не встречая противодействия довоенных лет. Однако произошло нечто иное: оставшееся белорусское население проигнорировало призывы белорусских националистов, которые так и не смогли заручиться народной поддержкой. Не помогли даже немецкие деньги: немцы открыли для белорусов учительские курсы, выпустили учебники, создали белорусские вооружённые формирования, но обеспечить белорусским националистам поддержку населения они не смогли. Не помог и запрет немецких оккупационных властей пользоваться русским языком в официальных отношениях. Простой народ в массе своей отвергал самодеятельных претендентов на представительство его интересов.
Строго говоря, у белорусских националистов не было поддержки ни от кого, кроме немецких оккупационных властей. Сами немцы откровенно заявили, что вся белорусская активность сводится к выступлениям нескольких литераторов и археологов из Вильно, которые ни на что не влияют. Всех белорусских националистов можно было уместить тогда на одной скамейке. Для немецкого командования мнение этих людей ничего не значило, но, немного помогая им деньгами, их можно было использовать против России – неважно, старой царской или новой советской.
Что касается тех белорусских националистов, которые остались на не занятой немцами территории бывшей империи, об их настроениях говорят интересные примеры. Самая известная их газета начала ХХ века «Наша нива» при нападении Австро-Венгрии на Сербию встала на сторону агрессора. Газета писала, что австрийцы, ликвидировав сербскую государственность и включив Сербию в состав Австро-Венгрии, предоставят сербам демократические права (словно за «демократические права» в империи Габсбургов сербский народ обязан был платить отказом от своего государства). Когда в войну вступила Россия, публицисты «Нашей нивы» заявляли, что им всё равно, кто теперь победит: дескать, «народы останутся». Тут полезен мысленный эксперимент: представить, что некая газета в СССР в начале июля 1941 года написала бы, что ей всё равно, кто победит. А в 1914 году «Наша нива» распространяла подобные настроения свободно, и никто её не преследовал. Не от того ли и пала «тюрьма народов»? К чести сторонников белорусской идеи надо сказать, что некоторые из них добровольно ушли на фронт защищать Родину, некоторые были мобилизованы. Однако остальные симпатизировали врагу – Германии. Как писал позже первый руководитель советской Белоруссии Д. Жилунович, белорусские активисты отличались от остальных «острым желанием победы немцам, которое не покидало белорусские круги всё время».
В 1916 году на организованной немцами «конференции угнетённых народов» в Лозанне белорусские националисты попросили «народы европейские» вмешаться во внутренние дела Российской империи, чтобы «утвердить в Белоруссии все политические и культурные права». (Вот откуда взялась идея «Недели порабощённых народов», по сей день ежегодно проводимая в Соединённых Штатах с 1959 года!). Здесь можно вспомнить и слова одного из инициаторов создания БНР Язепа Лёсика, который летом 1917 г. в газете «Вольная Беларусь» писал: «Вильгельм воюет как раз за то, что необходимо людям: он хочет увеличить своё государство». Лёсик писал это, когда солдаты кайзера топтали своими сапогами его родную землю. А некоторые белорусские деятели не брезговали использовать деньги, выделенные на помощь беженцам, для устройства своих политических дел. В частности, весной 1917 г. так поступил Э. Будько.
Такой была идейно-психологическая почва, на которой в конце 1917 года активисты белорусских организаций созвали Первый Всебелорусский съезд, разогнанный большевиками. Несколько делегатов этого съезда в феврале 1918 года, в день вступления немцев в Минск, объявили себя белорусской властью; эта «власть» в марте 1918 года заявила о создании Белоруской народной республики. А в апреле 1918 года Рада БНР направила кайзеру Вильгельму телеграмму, в которой говорилось, что будущее Белоруссии возможно «только под опекой германской державы».
25 марта миновал очередной День воли с его призывами отсчитывать белорусскую независимость не от Советской Белоруссии, объявленной 1 января 1919 года, а от Белорусской народной республики (БНР), провозглашённой 25 марта 1918 года.
Одной из причин такой ретроспекции называется то, что БНР была провозглашена раньше БССР. Само по себе удлинение государственности Республики Беларусь на 9 месяцев не имеет, разумеется, никакого смысла, если только это не стремление лишить Республику Беларусь советского наследства. Ведь если за объявлением БНР в 1918 году кроме бумаг и немецкой поддержки ничего не стояло, то за объявлением БССР была реальная территория, которую контролировали белорусские большевики. Правда, практически сразу Советская Белоруссия объединилась с Советской Литвой, а через некоторое время Литовско-Белорусская Республика была оккупирована поляками, но после того, как Красная армия выбила польские войска из Минска, Советская Белоруссия утвердилась.
Ещё говорят, что без объявления БНР у большевиков не было бы стимула объявлять БССР и белорусская государственность не состоялась бы вообще. Однако, по воспоминаниям белорусского активиста Е. Канчера, И. Сталин (первый советский нарком по делам национальностей) говорил о перспективах становления белорусской государственности на советской основе с первых дней после Октябрьской революции. Никакого проекта БНР тогда не было вообще.
Привязка белорусской государственности к БНР – феномен чисто идеологический. С его помощью постепенно убирается та мысль, что белорусская государственность изначально имела советскую основу. Можно критиковать советскую власть, можно её не любить, даже ненавидеть, но Белоруссию породила именно она. Оглядываться на Польшу и Прибалтику здесь нечего. У современной Польши – Третьей Речи Посполитой – была Первая Речь Посполитая и Вторая Речь Посполитая. У прибалтийских государств был период 1918-1940 гг., когда они были независимы. У Белоруссии ничего такого не было.
Утверждать, что Великое княжество Литовское было белорусским государством, конечно, можно, но у литовцев на этот счёт своё, совершенно иное мнение. Да и поляки не склонны видеть в средневековой Литве нечто белорусское. Попытка производить белорусскую государственность не от БССР, а от БНР больше похожа на украинскую ситуацию после государственного переворота 2014 года, когда власти начали демонстративную декоммунизацию, отвергая советское наследие на корню и возводя современную государственность к УНР. Однако УНР осталась призраком. Большевики, подойдя к Киеву, заставили бежать украинское правительство, которое через пару дней заключило сепаратный мир с Германией и попросило у немцев помощи против большевиков. И первая версия УНР была ликвидирована немецкими солдатами, которые разогнали Раду УНР (причина разгона была пикантная: члены украинского правительства захватили киевского банкира, вымогая у него деньги; сегодня, это назвали бы рэкетом). Взамен УНР появилась украинская держава гетмана Скоропадского, но и она могла держаться лишь на немецких штыках. После поражения Германии в Первой мировой войне её судьба была предрешена. Директория провозгласила вторую версию УНР, но и её жизнь была короткой, большевики быстро взяли Киев. Затем украинские формирования вновь вошли в Киев за армией Деникина, но уже на следующий день белогвардейцы изгнали украинские части из украинской столицы. Бежавший в Варшаву С. Петлюра вынужден был признать западноукраинские территории польскими. Подобными вещами занимались и белорусские националисты. Например, В. Ластовский подержал литовские претензии на Виленский край, который контролировался поляками, хотя был уверен, что этот край является белорусским. Никакой поддержки на местах у таких деятелей, опиравшихся на зарубежные силы, не было и быть не могло.
Формально связать происхождение белорусской государственности из двух истоков – БНР и БССР – можно со ссылкой на Берлинскую конференции 1925 года, когда правительство БНР и большинство членов Рады БНР в изгнании признали Белорусскую ССР «единственным центром национально-государственного возрождения Белоруссии». Проведение конференции финансировали и контролировали большевики, которым нужно было убрать руководство БНР в изгнании с политической сцены Европы. И большевики добились своего – и так слабая белорусская активность за рубежом была ещё больше ослаблена. Передача полномочий от эмигрантов Минску не стала установлением происхождения белорусской государственности из двух истоков. Некоторые министры БНР перед конференцией сложили с себя полномочия и не могли принимать решение о передачи полномочий правительства, являясь частными лицами. Меньшинство руководителей органов БНР не признало решений конференции: среди них были председатель Рады П. Краческий и его заместитель В. Захарко. Кстати, печать БНР, а также архив БНР остались у Краческого. То есть формально БНР оставалась самостоятельной организацией. Вопрос о том, были ли соблюдены юридические формальности при передаче полномочий правительством БНР правительству Белорусской ССР, остаётся открытым. Если они соблюдены не были, передача полномочий правительства БНР правительству БССР – всего лишь фикция. Во время войны глава Рады БНР В. Захарко приветствовал А. Гитлера, хотя сотрудничать с немцами всё же отказался. После войны в состав Рады БНР входили как коллаборационисты, так и воевавшие против Германии белорусские активисты. Рада сотрудничала с ЦРУ и не признавала БССР.
После распада СССР правительства в изгнании, представлявшие Польшу, Украину, республики Прибалтики, передали свои полномочия новым властям. А Рада БНР – белорусское правительство в изгнании – отказалась это сделать. В настоящее время печать и архив БНР находятся в США, а мало кому известная Рада БНР продолжает существовать, являясь абсолютно зависимой от внешних сил. И существовать она будет до тех пор, пока у внешних сил есть к ней интерес. А если интерес пропадёт, Раду БНР ждёт судьба Белоруской центральной рады (БЦР) – образования, которое появилось при вторичной оккупации немцами Белоруссии в период Великой Отечественной войны. БЦР после войны составила конкуренцию Раде БНР, но коллаборационисты, сотрудничавшие с нацистами, оказались внешним силам (американцам) малоинтересны, и БЦР прекратила существование со смертью своих последних членов.
Ну а существующая в изгнании в лице своей Рады БНР является формальной альтернативой нынешнему белорусскому государству, ведущему свою родословную от Советской Социалистической Республики Белоруссии.
Александр Гронский, ФСК